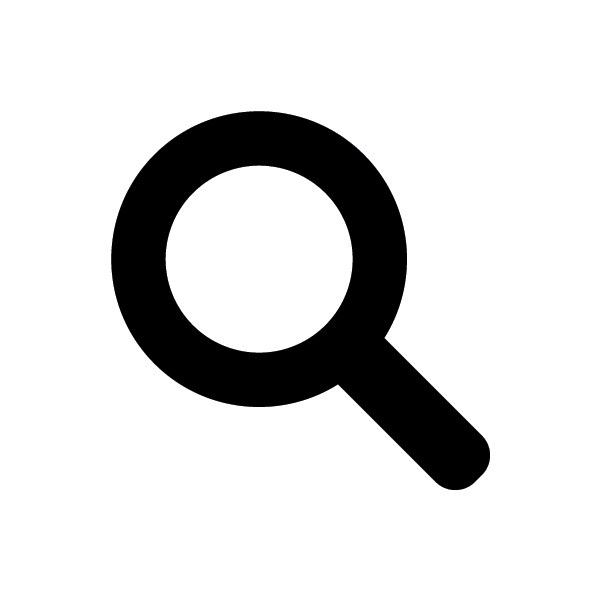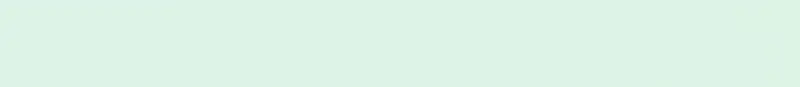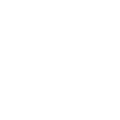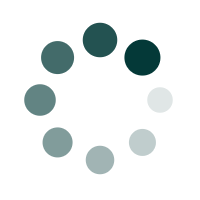«День освобождения» США: в прямолинейном мире меняется смысл санкций Расклад Прейгермана
Американский «День освобождения» от остального мира с помощью масштабных тарифов символическим образом подсвечивает более прямолинейный мир. У этой прямолинейности будет много последствий, в том числе новое прочтение межгосударственных санкций.
Если в современном мире и осталось хоть что-то от стабильной предсказуемости, то это деятельность американской администрации Дональда Трампа. Звучит как шутка, но шутка с долей истины. Предсказуема деятельность Вашингтона под руководством MAGA-республиканцев, разумеется, в том смысле, что все уже приняли реальность, в которой практически каждый новый день приносит все более будоражащие мир новости из США. 47-й глава Белого дома продолжает все основательнее вступать в свои президентские бразды правления и менять казавшиеся вечными устои американской политики бесконечным ураганом ошеломляющих решений и заявлений.
Пожалуй, можно было бы охарактеризовать эту действительность как стабильную непредсказуемость. Это именно то, к чему готовились, согласно их собственным заявлениям, лидеры и правительства во многих уголках планеты после триумфальной победы Трампа на прошлогодних президентских выборах. Хотя подготовиться к такому просто невозможно, даже в чисто психологическом плане.
При этом самое интересное, что во многом непредсказуемость решений Трампа не только стабильная, но и не такая уж непредсказуемая после многих лет его активной политической деятельности, как в качестве главы государства, так и в рамках избирательных кампаний. О большинстве из принимаемых сейчас решений он так или иначе заявлял или рассуждал раньше, пусть и далеко не до всего, о чем Трамп когда-то говорил, у него доходят руки. Поэтому «черными лебедями» в строгом смысле этого термина из теории форсайта его многочисленные исполнительные указы не являются.

Именно так и с, наверное, самым резонансным и ошеломляющим решением действующего главы Белого дома за первые 10 недель после инаугурации – единомоментным введением массивных тарифов в отношении импортной продукции из очень многих стран мира. Событие настолько масштабное и незаурядное, что Трамп провозгласил его историческим «Днем освобождения». Насколько действительно освобождающе-благоприятные или, наоборот, катастрофические последствия это решение будет иметь для американской экономики, покажет время. Однако оно однозначно войдет в историю своим символизмом: как еще одна точка отсчета больших перемен в международных отношениях, запускающих качественно новые процессы и придающих свежее прочтение устоявшимся явлениям. Одним из таких явлений, о котором в контексте тарифной революции Трампа пока почти не говорят, могут быть экономические санкции.
Конец глобализации?
Объявленные в подчеркнуто торжественной обстановке тарифные решения Вашингтона стали более масштабными и далекоидущими, чем многие ожидали. Как отмечается, это самое массовое единовременное наложение тарифов за как минимум последние 70 лет. С их помощью администрация США рассчитывает, как уже не одно десятилетие повторяет сам Дональд Трамп, исправить историческую несправедливость, когда многие страны мира, как союзники, так и оппоненты США, нечестно «наживаются» на американской экономике.
Тут, конечно, можно уточнить, что речь не просто об американской экономике, но и о ее особом месте в экономике всей планеты благодаря уникальному статусу доллара США в мировой финансовой системе и таким же уникальным возможностям Вашингтона на уровне ключевых финансовых институтов мира. Но Трамп и его команда считают, что эти уникальности в существующем виде создают для его страны больше проблем и издержек, чем предоставляют выгод. Поэтому с помощью таких тарифов он хочет минимизировать издержки, сохранив и даже нарастив при этом выгоды. В частности, расчет на то, что новые тарифные подходы в комбинации с другими инструментами государственной политики смогут вернуть былое величие американской промышленности, создать множество новых рабочих мест, повысить общее благосостояние своих граждан, снизить зависимость от зарубежных государств и рынков, а также оздоровить национальные финансы. Все это в сумме, по задумке MAGA-республиканцев, еще должно и усилить безопасность и позиции США в трансформирующемся мире.
Пожалуй, наиболее часто звучащей сейчас характеристикой принятых Трампом тарифных решений и их ожидаемых мировых последствий является вывод о конце глобализации. Во многом это, конечно, эмоциональная оценка на волне горячих событий. Хотя в символическом смысле с таким утверждением можно согласиться. Как минимум, с конца 1980-х годов (а по факту и намного раньше) США являлись главным драйвером и знаменосцем глобализации современной глобализации. Это, еще раз подчеркнем, органично вытекало из особого политического и финансового статуса этой державы в мире. Теперь же именно США единолично принимают решения, многие из которых перекраивают или вообще останавливают работавшие глобализационные траектории. Именно США фактически ставят крест на институциональных опорах глобализации: многочисленных международных межправительственных и неправительственных организациях. В том числе и на святая святых глобализации – Всемирной торговой организации (ВТО).
Выходя же за пределы лишь символизма, тарифные решения США, пожалуй, выглядят менее драматично в контексте глобализации. Ведь затормаживаться и даже сворачиваться глобализация в том варианте, к которому мы привыкли за почти четыре десятилетия, начала раньше. В будущем историкам еще предстоит вывести обоснованную хронологию этого процесса. Однако в любом случае еще до «Дня освобождения», когда Трамп ошеломил большую часть мира своими тарифами, произошло много знаковых событий, которые накопительным эффектом изменяли глобализационные процессы.

Свое место в этой хронологии наверняка займет и решение Великобритании на референдуме 2016 года о выходе из Европейского союза. И, разумеется, первый президентский срок Дональда Трампа. В своей риторике о той же ВТО и всей системе мировой торговли он уже тогда не оставлял сомнений о собственных намерениях. И уже тогда Китай стал звучать большим апологетом свободной торговли и иных либеральных принципов мировой экономики, чем сами США. Особое место в будущей хронологии будет отведено, без сомнения, и пандемии коронавируса. Она на примере огромных потерь человеческих жизней и общего политико-экономического хаоса привела очень многих к выводу, что либеральные представления об эффективности глобальных цепочек поставок и разделения труда являются опасными иллюзиями.
Еще одной жирной отметкой в этой хронологии станут беспрецедентно масштабные и глубокие санкции после начала росийско-украинской войны, которые затронули не только экономику. Они имели и продолжают иметь деглобализационный эффект во многих сферах, в том числе на уровне простого межчеловеческого общения. И распространился этот эффект на всех: кто вводил санкции, против кого они вводились и также тех, кто как бы был в стороне, но неизбежно начал сталкиваться со угрозами так называемых «вторичных санкций».
Международные отношения становятся более прямолинейными
Именно на тему международных санкций в контексте тарифного урагана Трампа хочется обратить отдельное внимание. Ведь некоторые аналитики и официальные лица рассматривают новоявленные тарифы американской администрации именно как санкции против большей части мира. Однако вначале отметим еще одну особенность происходящего.
Американский «День освобождения» по Трампу показывает нам (уже не в первый раз за последние годы), что из внешней политики США, а вместе с ней и из международных отношений в целом, все больше уходят условности. Уходят идеалистически-либеральные и конструктивистские надстройки, которыми в глобализированном мире западные государства часто объясняли те или иные решения в области внешней политики и безопасности. Притом некоторые политики и дипломаты на Западе давали подобные объяснения с простой целью прикрыть истинные намерения своих центров принятия решений. Но многие другие действительно искренне верили в высокие мотивы и идеалы, стоявшие, по их оценкам, за иногда даже жестокими решениями.
Сейчас практика международных отношений утрачивает такие условности и идейно-ценностные надстройки. Кто-то скажет, что благодаря этому мировая политика становится менее циничной. Кто-то, наоборот, считает, что таким образом она лишается последних опор идеализма и ценностной нормативности. Возвращает нас в низменное состояние «естественного» мира Томаса Гоббса, в котором все против всех. Но в любом случае, вне зависимости от нашего личного отношения к этим преобразованиям, международное общение во всех его проявлениях выглядит все более прямолинейным. Есть интерес – есть вытекающие из него решения. Эти решения, конечно, можно и дальше как-то упаковывать в медийную добродетельную обертку, но можно и не заморачиваться. Тем более что ценностная упаковка часто только мешать достижению внутриполитических целей. Глобальные тарифы от администрации Трампа и особенно их мотивационная часть это очень ярко показали.
Новое-старое историческое прочтение санкций
Здесь вернемся к теме санкций. Складывается впечатление, что на фоне растущей прямолинейности международных отношений происходит историческое изменение самой сути и функций санкций. По крайней мере, если вести речь о межгосударственных санкциях. Потому что санкции в отношении негосударственных акторов – например, террористических и криминальных групп – все же представляют собой особые кейсы, суть которых вряд ли изменится.
Если вкратце вспомнить эволюцию идеи межгосударственных санкций после Второй мировой войны, то изначально они рассматривались в привязке к главному и единственно легитимному органу по поддержанию мира и безопасности на планете – Совету Безопасности ООН. Только консенсусная воля этого органа могла быть достаточной и легитимной причиной для введения санкций. Потому что они по определению должны были направляться на достижение всеобщего блага, а не на удовлетворение национальных интересов или ценностных ожиданий отдельных государств. На цели поддержания или восстановления мира и безопасности, а не на реализацию субъективных потребностей или разрешение внутриполитических кризисов, не угрожавших международной безопасности.
В 1990-х в санкционной сфере начались активные дискуссии, которые в условиях однополярного мира привели и к быстрым изменениям в правоприменительной практике. Стали появляться новые теоретические подходы, обосновывавшие возможность эффективнее пользоваться санкционным инструментарием для достижения более нюансированных задач, чем то, что подпадало под определение «мира и безопасности» в годы Холодной войны. Например, возникли концепции о «наивных санкциях» и таргетированных санкциях.
В итоге уже через некоторое время санкционная правоприменительная практика отошла от эксклюзивной компетенции Совбеза ООН. Многие государства, прежде всего на Западе, начали применять их в одностороннем порядке. Благодаря уникальному положению США в международной финансовой системе и их весу во всей мировой экономике эта односторонняя практика быстро стала нормой. Очень активно ее стали практиковать и другие западные государства.

В последние несколько десятилетий они обычно обосновывали свою санкционную политику в отношении третьих стран примерно так, как год назад это сделала Энн-Мари Тревельян, курировавшаяся санкционную политику в британском Форин Офисе. Процитируем: «Мы решаем, когда и где применять санкции, на основании четких целей и принципов. Наши санкции должны сдерживать их адресатов от совершения негативных действий или заставлять их прекратить такие действия, если их уже начали совершать. Также наши санкции призваны демонстрировать преданность нашим ценностям. Мы стремимся изменить поведение акторов, на которых направлены санкции, и одновременно послать более широкий сигнал».
Все это стало неотъемлемой частью существовавшей до недавнего времени глобализации. Если же теперь глобализация видоизменяется, то и санкционная практика в межгосударственных отношениях также будет изменяться. Как и международные отношения в целом, она будет становиться более прямолинейной. Возвращаться к некоторой исторической норме, когда национальный интерес является достаточным основанием для даже самых шокирующих действий и не требует дополнительной «ценностной» упаковки.
Пока это, скорее лишь гипотеза. И если она оправдается, то последствия будут двоякими. С одной стороны, былого санкционного безумия в мире, наверное, станет меньше. Просто потому, что западные политики не буду чувствовать себя вынужденными на любые общественно резонансные события в других странах реагировать санкциями по формуле «а что еще нам остается, чтобы наше общество нас не прессинговало?». С другой же стороны, прямолинейное применение санкций станет уже другой нормой – геополитического противостояния. Вводиться они будут не под ценностным «соусом», а по принципу «кто не с нами, тот против нас».