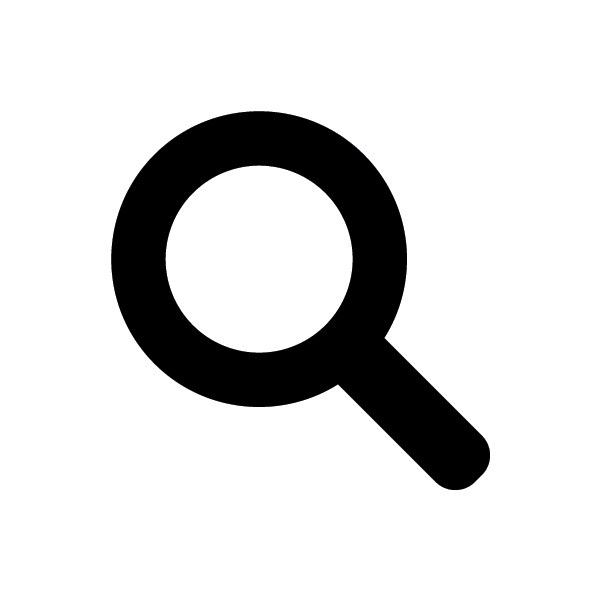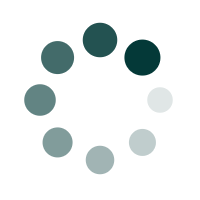«На примере Украины становится понятно, какой стратегической ловушки избежал Азербайджан» Развернутое интервью Caliber.Az с Сергеем Богданом
Интервью Caliber.Az с белорусским политологом, научным сотрудником Института имени Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Свободном Университете Берлина, доктором политических наук Сергеем Богданом.
- Стало ли для вас неожиданностью начало 44-дневной войны 27 сентября прошлого года?
- Если взглянуть на внешнюю и военную политику Баку в течение предыдущих полутора десятилетий, то можно говорить о последовательном выстраивании азербайджанской стороной предпосылок для такого рода операции. Уже в начале 2010-х, объективное развитие ситуации – модернизация азербайджанской армии, выстраивание отношений с внешними силами и прочее – указывало на то, что Баку может провести в Карабахе некий вариант хорватской операции «Буря» 1995 года. Последняя, как известно, привела к ликвидации сербского аналога т.н. «республики арцах» – самопровозглашенной республики Сербская краина в Восточной Славонии.

- Как вы оцениваете дипломатические усилия Баку до войны и во время нее?
- Эти усилия оценила сама жизнь, и оценка с точки зрения эффективности очевидна. Лучше отметить две важные черты этих усилий. Во-первых, в Баку осознавали важность дипломатии и выстраивания альянсов либо просто улучшения отношений с теми или иными силами. Иначе говоря, не было ставки на исключительно тотальный военный триумф. Вроде, звучит само собой разумеющимся, но это постфактум, а изначально это явно требовало волевого осознанного решения.
Во-вторых, несмотря на внимание азербайджанского правительства к альянсам, внешней политике и дипломатии, Баку сохранял свою субъектность, или то, что по-английски называют agency. Иными словами, американские чиновники могли звонить украинскому президенту Порошенко, чтобы отругать за проведение операций на украинской же территории. А вот с Баку такое представить себе невозможно.
- В Азербайджане хорошо представляли себе высокий уровень боеготовности и оснащения азербайджанской армии. Об этом говорили и многие военные эксперты. Почему же на этом фоне в Армении продолжали заниматься шапкозакидательством и не вняли мирным инициативам Баку?
- Действительно, что удивило на этой войне – так это выяснившиеся факты неготовности к военным действиям с армянской стороны, даже в том, что касается фортификации и мобилизации, не говоря уже о стратегических планах. И дело не в отсутствии денег – да нищие эритрейские повстанцы десятилетиями с минимальным снаряжением противостояли армии центрального правительства, вооруженной новейшей советской техникой. Как? А вот именно до бесконечности закапываясь в землю всеми подручными средствами. В Карабахе, кстати, ландшафт куда более удобный для такого противостояния.
Но если вернуться к вопросу, то основной причиной кажется то, что как и во многих других постсоветских странах, в Армении политический истеблишмент оторвался от реальности. Иными словами, утратил осознание и понимание того, что им (и их детям) жить вот на этой земле, в этом регионе и с этими соседями. И формируя политику, надо думать об этом и о своих силах, а не уповать на внешнюю помощь, мечтая о соглашениях об ассоциации с ЕС, сближении с США, Западом, НАТО или наоборот - с РФ, ОДКБ, ЕвразЭС.

Вот эта оторванность и вела, например, к этим странным действиям по отношению к российской стороне – когда Пашинян сделал из ОДКБ посмешище. Под красивые слова и вроде бы в благородном порыве – навести порядок – но это риторика, а по факту удар был нанесен по важной составляющей безопасности Армении. Ясно, что не Пашинян виноват в ослаблении армянской армии, и наверное, он искренне стремился очистить страну от коррупции и злоупотреблений властью. Но не надо большого ума, чтобы сделать это с такими последствиями. Это как бороться с мышами путем сожжения здания.
Вообще это огромная проблема Восточной Европы и постсоветского пространства – нежелание думать о своих интересах и своих силах. Неспособность задумывать и осуществлять исходя из этого свои проекты.
Вместо этого правящие круги на этом пространстве зачастую стремятся «имитировать», соглашаясь на роль периферии и расходного материала в чужих проектах. Как заметил известный ныне на Западе болгарский мыслитель Иван Крастев, «для жителей Центральной и Восточной Европы «конец истории» был больше похож на конец будущего, которое внезапно оказалось рядом в пространстве, а не впереди во времени». Он имел в виду огромные международные объединения, присоединение к которым сулило «светлое будущее».
Но имитация, прицепка-bandwagoning к чужому, внешнему проекту обычно оказывается не просто далека от оригинала, она вторична и потому пагубна. Давайте возьмем пример Украины, чтобы стало понятно, какой стратегической ловушки избежал Азербайджан. Пока Украина в 1990-х худо-бедно боролась с сепаратизмом своими оригинальными методами, а бывший советский генерал госбезопасности Александр Скипальский посылал боевиков УНА-УНСО воевать на Кавказ – под лозунгом «Чтобы не получить фронт в Крыму, надо держать фронт на Кавказе» – у Украины были Крым и Донбасс. А вот решение украинских руководителей заняться имитаторством под лозунгами евроатлантической интеграции мгновенно привело к потере и того, и другого, и многого еще – и перспектив восстановления территориальной целостности пока не видно. Между тем, сейчас мы видим на примере Карабаха, что страна, сохраняющая свою субъектность, может отыграть проигранное. И Украина уже могла бы добиться того же, если бы пошла по такому пути. А вот утратив субъектность даже в пользу ведущих мировых держав, надеяться, что они будут решать ваши проблемы, не стоит.
- После войны на освобожденные территории Азербайджана были введены российские миротворцы. Однако в последнее время в азербайджанском обществе их деятельность, вернее, бездеятельность вызывает вопросы. В частности, они не только позволяют Армении перебрасывать войска в зону своей временной ответственности в Карабахе, но и не разоружают незаконные армянские вооруженные формирования. На ваш взгляд, мы имеем тут дело с двоякой политикой Москвы?
- Двоякая, троякая и вообще многоголовая и многорукая политика у Москвы не только по отношению к Карабаху. Эта структурная проблема связана с тем, как выстроена система принятия внешнеполитических решений в России. Во-первых, экспертная база по очень многим направлениям там слаба – сравните просто западные и российские исследования по соответствующим регионам – как там насчет работы с первичными источниками, концептуализации и пр. Это связано и с коррупцией, и с политическими ограничениями в академической деятельности.
С аналитикой ситуация получше, но тоже сложно – вспомните, как недавно на серьезного российского эксперта по Ближнему Востоку попытались завести дело за «экстремизм» (имеется в виду Кирилл Семенов – Ред.). В результате вопросы элементарно не изучаются и не проговариваются.
В-вторых, очевидна закрытость российских госучреждений по сравнению с западными. Как выстроена система внешнеполитической деятельности в США, например? По модели, в рамках которой эксперты и ресурсы циркулируют между вузами, фабриками мысли, частным сектором и госучреждениями. На постсоветском пространстве каждый сектор работает отдельно и зачастую за закрытыми дверями – очень часто это прикрывает недобросовестную и недоброкачественную работу.

Какие последствия влечет за собой эта ситуация? Не только противоречивость и неэффективность политики. Но и то, что лоббисты – которые есть и в любой западной стране – в России могут развивать свою деятельность и навязывать нужные им варианты политики даже в случае их полного противоречия неким очевидным национальным интересам. Посмотрите на США – пусть со скандалами, но серьезные политические и интеллектуальные фигуры вроде профессора Миршаймера проговаривают проблему роли израильского лобби и тем самым осуществляется коррекция государственной политики, на которую это лобби влияет. А в России кто из серьезных ученых, аналитиков или политиков осмелится сказать о неких лобби, называя имена и структуры?
- Почему Армения явно, а Иран – исподтишка - противятся открытию Зангезурского коридора?
- Прежде всего, эта проблема связана с видением ситуации в негативных терминах. Хотя именно через такие проекты страны региона и могли бы найти некую общность интересов, которая позволила бы всем совместно развивать общий регион.
 В отсутствие этой общности интересов пышно расцветает всяческая мифология. Как в некоторых регионах в каждой беде видят «руку Москвы» и происки «русского мира», так в других боятся некоего «пантюркизма» или этнического национализма и «неоосманизма». Мне приходилось работать и проводить исследования и в Армении, и в Иране, и интересно, что в последнем опасений относительно пантюркизма (в широком и узком его вариантах) я слышал, пожалуй, не намного меньше, чем в Армении. Разумеется, в соответствующих экспертных кругах. Нарастание иранского национализма по мере отхода от универсальных революционных установок 1979 года влечет за собой болезненное внимание к иным националистическим проектам – в том числе к азербайджанскому национализму и пантюркизму. В революционные годы хомейнисты говорили – в первую очередь мы мусульмане, во-вторую - курды, персы или турки. Сейчас же политика все больше напоминает времена покойного шаха.
В отсутствие этой общности интересов пышно расцветает всяческая мифология. Как в некоторых регионах в каждой беде видят «руку Москвы» и происки «русского мира», так в других боятся некоего «пантюркизма» или этнического национализма и «неоосманизма». Мне приходилось работать и проводить исследования и в Армении, и в Иране, и интересно, что в последнем опасений относительно пантюркизма (в широком и узком его вариантах) я слышал, пожалуй, не намного меньше, чем в Армении. Разумеется, в соответствующих экспертных кругах. Нарастание иранского национализма по мере отхода от универсальных революционных установок 1979 года влечет за собой болезненное внимание к иным националистическим проектам – в том числе к азербайджанскому национализму и пантюркизму. В революционные годы хомейнисты говорили – в первую очередь мы мусульмане, во-вторую - курды, персы или турки. Сейчас же политика все больше напоминает времена покойного шаха.
- Что ожидает наш регион в ближайшей перспективе? Удастся ли перевернуть страницу истории армяно-азербайджанского конфликта или новая война с Арменией неизбежна?
- Вряд ли возможна новая настоящая война с Арменией – объективно нет для этого материальной базы, да и вряд ли кто-то желает ее начать. Посудите сами: заняв столько азербайджанской территории, вопреки всем романтическим националистическим басням, армянская сторона так и не придумала, что с ней делать – самопровозглашенная «нкр» так и не была признана даже самой Арменией, став некоей «серой зоной» вроде «ПМР», Южной Осетии, Абхазии, «ДНР-ЛНР». А большая часть территории, занятой армянскими силами вне территории собственно бывшей НКАО, вообще осталась лишь пустой буферной зоной. Потому и ее возвращение Азербайджаном в результате войны 2020 года вряд ли может подтолкнуть к некоему реваншизму. Баку же воздержался от более радикальных операций по отношению к более населенным районам, и если сейчас будет найдено некое приемлемое решение по армянскому населению бывшей НКАО и самой этой области, то не только перед Азербайджаном, но и перед всем регионом, включая Армению, наконец могут открыться некие перспективы.
Потому, наверное, и воинственных порывов пока незаметно, и неудивительно, что в конце августа армянский парламент одобрил программу правительства страны на ближайшие пять лет, которая не выглядит как подготовка к войне. Она говорит о региональном мире как долгосрочной стратегии, ставит задачу углубления или нормализации отношений с соседними странами, и конкретно отмечает, что «демаркация и делимитация границ с Азербайджаном будут иметь важное значение для формирования стабильной региональной атмосферы».

На самом деле, перевернуть страницу истории было бы полезно всем – все же история региона состоит далеко не только из войн и резни. Ведь жили люди разных племен и народов не только рядом, но и вместе, достаточно взглянуть на более отдаленную историю, скажем, Османской империи (до того, как в ней развернулись националистические проекты) или Ирана времен Сефевидов или Каджаров, чтобы понять: вражда – не исконная, а наследие националистического экстремизма. Тот же проект отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана на закате советской эпохи был очевидным продуктом национализма восточноевропейского типа. Для которого очевидна ориентация на прошлое и архаику – давайте прогоним чужих, повесим наши символы, найдем красивое имя в истории, расскажем про наши древности, удалив оттуда всякие упоминания, что мы были на этой земле не единственными жителями, и заживем. Сделали. А что в результате – пролитая кровь и тупиковый в плане развития и даже просто выживания политический проект, который оказался неспособным привлечь ни деньги, ни людей? И это же не только в Карабахе так, по всему огромному пространству бывшего Восточного блока целый ряд подобных больших и малых проектов.
Одним словом, на Кавказе тот, кто начнет преодолевать это кровавое наследие прошлых десятилетий, избегая ловушек национализма а ля Восточная Европа, тот и выстроит будущее региона. Для этого и нужны сдержанная политика, внимание к дипломатии и опора на свои, а не внешние силы – втягивание внешних доброжелателей только на первый взгляд помогает в решении проблем – на самом деле проблемы тем самым интернационализируются, усложняются оказавшись увязанными в клубок глобальных противоречий. Соседи важнее дальних родственников и союзников.