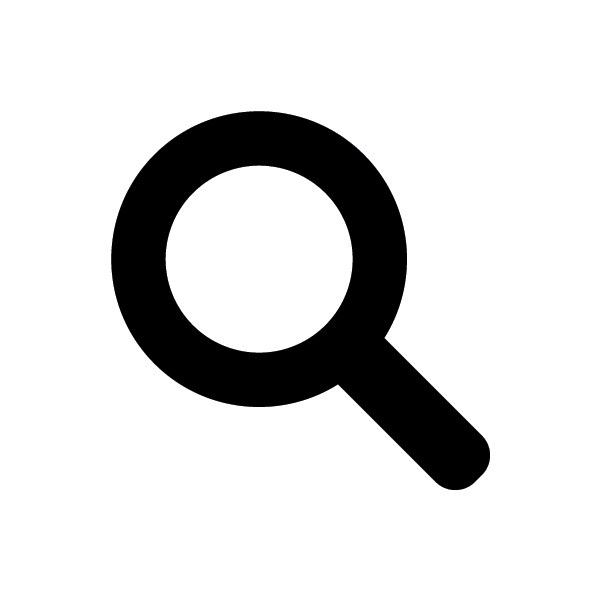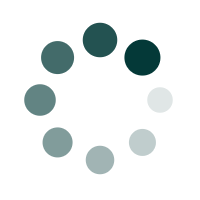«Экономика станет одной из основ окончательного решения армяно-азербайджанского противостояния» Леван Герадзе на Caliber.Az
Интервью Caliber.Az с грузинским аналитиком, конфликтологом, в прошлом - активным участником грузино-абхазских переговоров, бывшим завотделом Аппарата госминистра Грузии по урегулированию конфликтов, директором Центра гумманитарных программ Сухумского государственного университета Леваном Герадзе.

- Поскольку в прошлом вы занимались урегулированием конфликтов на территории Грузии, то в первую очередь хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, какие меры сегодня предпринимает грузинское правительство для восстановления территориальной целостности страны?
- Грузия придерживается стратегии мирного урегулирования конфликта, важной частью которого является его трансформация, примирение, улучшение отношений между противоборствующими сторонами. Эта стратегия была разработана в 2010 году и с тех пор, формально не меняясь, охватывала все возможные элементы и инструменты для окончательного мирного урегулирования. В рамках этой стратегии пару лет назад была разработана программа «Шаг к мирному будущему», предусматривающая создание лучших условий для торговли между сторонами, получения образования. Все это делается для населения, легитимно проживающего на временно оккупированных территориях.
Вместе с этим уже более 13 лет работает программа по здравоохранению, которая также нацелена на легитимно проживающее на оккупированных территориях население. Люди, которые живут в Абхазии и Цхинвальском регионе, получают широкий спектр медицинского обслуживания за счет грузинского государства. Все эти программы работают довольно успешно, и это очень серьезно влияет на отношения населения двух сторон.
Конечно, этого недостаточно, очень важно развивать политическую составляющую, которая, несмотря на усилия как грузинской стороны, так и международного сообщества, пока не улучшается.
Кроме этого, война в Украине не способствует улучшению обстановки, однако, с другой стороны, когда существуют проблемы, это открывает дополнительные возможности для сотрудничества и нахождения общих подходов решения проблем.
Что касается общественного уровня, то дела в этом направлении обстоят не сказать, чтобы очень хорошо, но у неправительственного сектора больше свободы для взаимодействия и сотрудничества.
В последнее время мы активно продвигаем идею университетской дипломатии, что подразумевает объединение двух таких явлений, как дипломатия и университет (не как место для обучения и ведения каких-либо научных исследований, а как научно-просветительский центр, вокруг которого формировалась современная европейская культура). Объединение этих двух очень важных явлений может стать дополнительной и очень эффективной платформой для того, чтобы процесс мирного урегулирования конфликта был более успешным и привел бы к лучшим результатам.
Грузинская дипломатия должна сделать все, чтобы в международных организациях, правовых структурах, столицах стран-партнеров сбалансировать в нашем регионе негативную роль, созданную нашим же соседом. Это весьма сложный процесс, которому необходим комплексный подход. Прямолинейным решением этот вопрос не урегулировать. Это зависит от многого: как от наших отношений с тем обществом, которое сегодня находится на оккупированной территории, так и от наших отношений с Россией, Западом, отдельно с Европой, Америкой. Важными являются также процесс нашей евроатлантической интеграции, либерализации виз, наше социально-экономическое положение, от этого тоже многое зависит.

- Тем не менее, в Грузии существует мнение, что территориальную целостность можно восстановить только силой. Как вы полагаете, достаточно ли мобилизовано общественное мнение с точки зрения мирной политики?
- Миротворческой политике в меньшей степени необходима мобилизация общественного мнения. Я имею в виду рядовых граждан. В большей мере должна быть мобилизована активная часть общества, неправительственный сектор, люди, которые формируют общественное мнение, и первым делом власть. Такова политическая воля, чтобы процесс развивался в как можно более мирной обстановке. Без этого успех в нынешних условиях недостижим.
- Война с осетинами и абхазами была очень кровопролитной, все мы помним жестокие события в Сухуми. Сможет ли Грузия простить это?
- Мы не рассматривали войну в Цхинвальском регионе как войну с осетинами и абхазами. Это была война за Грузию, за ее территориальную целостность, за ее будущее, суверенитет и независимость.
Мы не считаем врагами этнических абхазов и осетин. Вся проблема была в той политике, которую проводили определенные сепаратистские круги, а главное - силы, на поводу которых они находились. Мы должны лучше осознать то, что тогда произошло, и не допустить повторения этого. За все это время мы наработали соответствующие ресурсы для нахождения общих подходов. У нас все же есть определенный оптимизм по этому поводу.
- Какие пути примирения с абхазами и осетинами вы видите?
- Это мирный диалог, это трансформация конфликта, это изменение отношения их населения к Грузии, а также кропотливая ежедневная работа с людьми, которые принимают решения, которые должны сделать выбор касаемо своего будущего. Это нелегкая работа, но иного пути нет.
- Чему эта война научила грузинское и абхазское общества?
- Разумеется, научила, но скажу о себе. Меня научила тому, что худой мир лучше доброй ссоры, что война – это самое худшее состояние, в котором может находиться человек, и считаю, что это то, чего мы должны избежать всеми возможными силами. К сожалению, не происходит сближения наших национальных проектов – особенно это очевидно в отношении Цхинвальского региона, где сложная обстановка, я уж не говорю о тех насильственно перемещенных лицах, которые ожидают возвращения в свои дома.
Опять же все это происходит потому, что у нас разные «национальные проекты» и разное видение нашего будущего. Значительная часть грузинского населения связывает свое будущее с европейскими структурами, с иными ценностями. На оккупированных территориях население подвержено тому вектору, который очень активно пропагандирует совершенно иной путь развития, и понятно, почему люди думают так, а не иначе.
- Какая разница между абхазской и цхинвальской проблемами?
- Абхазский национальный «проект» подразумевает создание независимого государства, а цхинвальский «проект» подразумевает присоединение к России. Разумеется, для меня ни то ни другое неприемлемо, потому что я, как человек, родившийся и выросший в Сухуми, жду того момента, когда все насильственно перемещенные лица, в соответствии с руководящими принципами ООН, вернутся в собственные дома.

- Выросло целое поколение после этой войны. О чем могут говорить грузины и абхазы, когда встречаются? Сохранится ли та ненависть между ними, которая имела место в прошлом?
- Знаете, на личностном уровне я никакой ненависти никогда не испытывал в отношении себя. Как бы это странно ни звучало, ни сейчас, ни тогда, когда раны были еще свежие, и даже во время боевых действий, я как-то не чувствовал, что у нас вражда на основе какой-то неприязни друг к другу.
- Вы принимали участие в военных действиях?
- Нет, просто я тогда там находился. Находясь в гуще событий, когда видишь, что перед твоими глазами все это происходит, невозможно не думать о причинах и путях выхода из создавшегося положения. Естественно, население оккупированных территорий неоднозначно относится к грузинскому государству, так же, как и я отношусь совершенно неоднозначно к тому псевдогосударству, которое пытаются нам навязать на территории Абхазии или Цхинвальского региона.
- О чем должны задуматься грузины и абхазы?
- О многих вещах. В первую очередь мы сами должны принимать решения и меньше оборачиваться на тех, кто стоит за нами. Мы сами должны осознать, что такое наши интересы, и действовать, исходя из наших интересов и интересов наших будущих поколений. Мы должны четко оценивать, какие у нас перспективы, и принимать решения, не основываясь на эмоциях, на каких-то прошлых моментах. Разумеется, мы должны очень хорошо изучить прошлое, чтобы знать, какие были допущены ошибки и какие можем допустить ошибки в будущем. Но мы должны исходить из возможностей и тех перспектив, которые нам предлагает современный мир, очень активно и стремительно меняющийся. Я просто уверен в том, что мы, к сожалению, не пользуемся всеми теми возможностями, которые этот открытый мир нам предоставляет.
- В отличие от вашего поколения, у которого были личные отношения с проживающими на оккупированных территориях, новому поколению грузин эти земли и проживающие там люди незнакомы. Как вы полагаете, возможно ли, что со временем тема восстановления территориальной целостности исчезнет из списка актуальных проблем?
- Думаю, эти вопросы останутся актуальными. Достаточно многочисленная часть населения, к сожалению, увяжет с этим конфликтом всю абхазскую сторону, а не сепаратистов и тех, кто стоял за ними, и это создаст серьезную проблему. Дело в том, что для нового поколения, у которого нет позитивного опыта отношений с абхазами, могут стать более желательными радикальные шаги, если посчитают это необходимостью. Я знаю только то, что Грузия никогда не откажется от своей территориальной целостности.
- Чем «Грузинская мечта» привлекает грузинское общество? В грузинском обществе иногда можно услышать, что эта партия занимает пророссийскую позицию…
- Не думаю, что они занимают пророссийскую позицию, возможно, определенные лица в «Грузинской мечте» придерживаются таких взглядов. «Грузинская мечта» - это партия власти, и естественно, она не обладает той свободой, которая есть у оппозиции. Партия власти несет больше ответственности, поэтому она не может делать резкие заявления или резкие шаги. Такие маленькие государства, как мы, должны согласовывать решения, которые могут вызвать серьезные сдвиги, с нашими стратегическими партнерами, государствами, которые поддерживают нашу территориальную целостность. Каждая политическая партия имеет своих сторонников, которые голосуют за нее, исходя из своих побуждений. «ГМ» пришла к власти в 2012 году на волне справедливого недовольства в отношении предыдущих властей. Также нельзя забывать и о благотворительной деятельности основателя «ГМ» Бидзины Иванишвили. Это тоже очень серьезный фактор, приводящий к поддержке этой политической организации.
- На каком сегодня уровне демократия в Грузии?
- Мы постсоветское государство и говорить о том, что у нас безупречная демократия, не стоит. Но, несмотря на это, мы сумели два раза мирно сменить власть, изменить конституцию, преодолеть все насущные проблемы. Была очень высокая вовлеченность в политические процессы, но наше общество это мирно пережило. На всеобщем постсоветском фоне мы выглядим довольно неплохо, однако это не повод для самодовольства. Впереди много возможностей для развития и достижений.
- Какие важные события произошли в Грузии за последнее время?
- На ум сразу приходит пандемия. Кроме того, были выборы в парламент Грузии, в местные органы власти. Все это сопровождалось острой политической напряженностью. Также на нас оказывают большое влияние и происходящие в Украине события, поскольку Киев наш стратегический партнер.

- Как вы относитесь к решению Азербайджаном Карабахского конфликта?
- Ситуация в Карабахе всегда была накаленной. Азербайджан вернул свои земли, этому способствовали и его возможности, ведь на Кавказе Азербайджан - крупнейшее и богатейшее государство. Баку отличается не только наличием запасов энергоносителей, но и развитой военной промышленностью. Ни для кого не секрет, что Баку сотрудничает с ведущими мировыми производителями оружия и сам его производит. Азербайджан вкладывал огромные средства в развитие военной промышленности, намного больше, чем Армения. Все это нашло свое отражение в повышении боевой способности, развитии настроя, что привело к полной победе Азербайджана.
Надеюсь, после этого между странами воцарится мир и начнется развитие экономических связей, что станет одной из основ для окончательного решения армяно-азербайджанского противостояния. А это, в свою очередь, должно подразумевать восстановление сотрудничества между Баку и Ереваном, возобновление транзитных перспектив, разблокирование транспортных коммуникаций. У нас нет другого выхода, кроме как жить в мире.
- Что грузинское общество думает насчет вступления в НАТО?
- В соответствии со ст. 78 Конституции Грузии, конституционным органам государства предписано в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию североатлантического договора. Это изменение в Основной закон нашей страны было принято 23 марта 2018 года, после проведения всенародного обсуждения, предусмотренного правовой процедурой. До того, в 2008 году, параллельно с выборами президента страны, был проведен плебисцит, на котором 77% населения высказалось за вступление в НАТО. Так что, у этого внешнеполитического вектора есть поддержка большей части населения Грузии.
Конечно, у нас есть политические силы, которые противятся евроатлантическому направлению, но они ничтожно малы, и большого влияния на политический процесс не имеют. Можно с уверенностью сказать, что большинство населения понимает, что без коллективных систем безопасности такое маленькое государство, как Грузия, не имеет инструментов для обеспечения собственной безопасности, и для этого нам необходима интеграция в западные структуры. В этом направлении НАТО является лучшим инструментом.