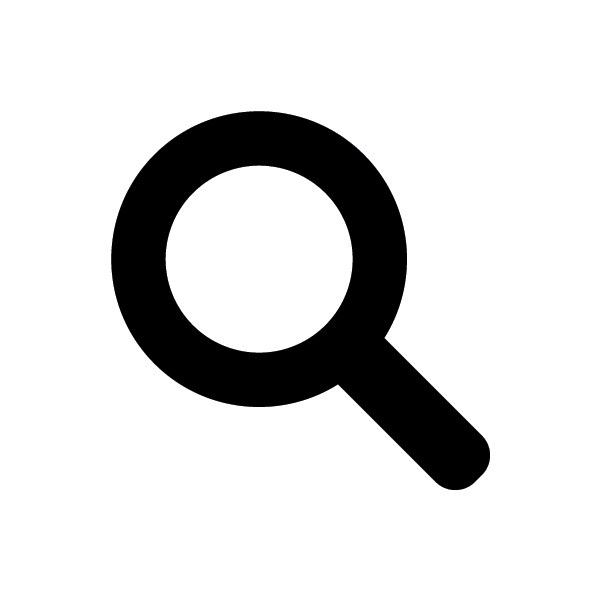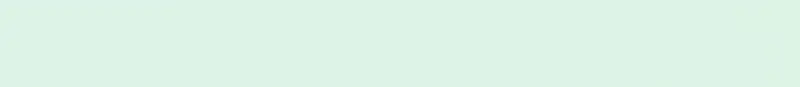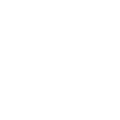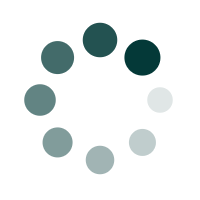Борис Навасардян о будущем мире с Баку, восприятии армян и конституции Большое интервью на Caliber.Az
Интервью Caliber.Az с почетным президентом Ереванского пресс-клуба, армянским политическим аналитиком Борисом Навасардяном.
– Между Азербайджаном и Арменией сейчас происходят события позитивного порядка, своего рода жесты примирения: Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, а Пашинян, в свою очередь, заявил о готовности открыть коммуникационные пути для Азербайджана и предоставить маршрут для грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. Кроме того, в Ереване состоялась встреча представителей гражданского общества двух стран, в которой вы приняли участие. Как в армянском обществе относятся к перспективам наладить полноценный диалог с Азербайджаном и открытия армяно-турецкой границы?
– Попытаюсь ответить на этот вопрос без данных социологии, опираясь на собственные ощущения и наблюдения. В армянском обществе, конечно, до сих пор тяжело переживают поражение в 44-дневной войне и последовавшие события. Главная, объединяющая многих, реакция – осознание, что армянская государственность, лежавшая в ее основе политическая мысль оказались не в состоянии достойно и адекватно ответить на вызовы безопасности и задачи, стоявшие на – в широком смысле – дипломатическом поприще, найти формулу становления и развития, соответствующую геополитическим реалиям. Большинство даже не отдает себе отчета в наличии столь сложно формулируемого осознания, поэтому упрощает его суть и переводит объяснение причин произошедшего на личности. Ни один из лидеров прошлых лет не заслуживает в обществе существенной поддержки за свою деятельность как в период нахождения у власти, так и сегодня. Не может похвастаться широким одобрением своей деятельности и премьер-министр Никол Пашинян, подаривший в 2018-м нереализованную – по крайней мере на данном этапе – надежду, что спустя 30 лет потенциал национального возрождения будет реализован и направлен в перспективное русло.
Разумеется, память о жертвах войны, ежедневные проблемы, обусловленные массовым исходом карабахских армян (добровольное переселение - Caliber.Az), добавляют темных красок в восприятие действительности.
Однако, если спуститься с высот «космического» осмысления на прагматичную и актуальную почву, то процессы, непосредственно предшествовавшие и последовавшие за 8 августа этого года, принимаются «тихим» большинством со спокойным одобрением. Оно проявляется, в частности, в том, что люди все больше задумываются о насущных делах: найти свое место на рынке труда или в предпринимательстве, чтобы обеспечить достойный доход семье, приобрести недвижимость или улучшить жилищно-бытовые условия, организовать досуг… Этому способствуют и те события, которые вы отметили в своем вопросе.
То, что происходит в медийно-политическом пространстве, где идет ожесточенная борьба, особенно обострившаяся накануне парламентских выборов и создающая впечатление, что вся страна бурлит, оставляет безучастным значительную часть общества. Люди, естественно, обсуждают происходящее, но в большинстве своем не настроены непосредственно в него вовлекаться.

Думаю, описанная ситуация вполне благоприятствует налаживанию всеобъемлющего диалога с азербайджанским обществом. Несмотря на психологические травмы и сохраняющиеся стереотипы, этот процесс добавляет жизнеутверждающего оптимизма в выстраивание гражданами Армении своего будущего.
– К чему в Армении относятся c большей настороженностью: налаживанию отношений с Азербайджаном или Турцией?
– Открытие границы с Турцией – фактор несколько иного порядка. Эта тема, в отличие от нормализации отношений с Азербайджаном как актуальной повестки, не новая, хотя приобретает иное звучание в контексте грандиозных проектов по разблокированию транспортных коммуникаций в нашем регионе. Если прежде она рассматривалась с точки зрения целесообразности развития главным образом армяно-турецких отношений, то теперь – как важный компонент стратегических перспектив страны и всего региона. В этом смысле аргументов в пользу открытия стало существенно больше, чем, к примеру, в период армяно-турецкой «футбольной дипломатии» в конце нулевых.
Сравнивать отношение армянского общества к Азербайджану и Турции сложно. Здесь имеются качественные различия. В Турции есть армянская община, играющая определенную роль в общественной жизни страны – газеты, школы, действующие церкви, депутаты парламента, бизнесмены… Традиции электоральной демократии в этой стране создают определенные условия для плюрализма мнений, среди видных фигур есть те, кто в той или иной степени разделяет отношение своих сограждан армянского происхождения к прошлому. Правда, многие из них сегодня оказались за рубежом, но разнообразие позиций и публично выражаемых взглядов сохраняется. К примеру, отношение к трагедии 1915 года в Азербайджане намного более категоричное, чем в турецком обществе… Граждане Армении проводят в Турции отпуска, пользуются турецкими аэропортами и автомобильными дорогами для транзита в третьи страны, есть категория, рассматривающая возможности устроиться в соседней стране на работу и реализующая их.

Наконец, нелишне вспомнить и то, что Анкара одной из первых признала независимость Армении в 1991 году, а в 1992-1993 годах поставила в блокадную Армению пшеницу хоть и при условии, что получит компенсацию от ЕС.
Всего перечисленного, думаю, достаточно для понимания, почему полная нормализация армяно-турецких отношений, включая открытие границы и обмен посольствами, долгое время представлялась гораздо более реалистичной перспективой, чем вывод на тот же уровень отношений с Азербайджаном. Вместе с тем, характер межличностного общения армян и азербайджанцев, схожесть в образе мышления, привычках, особенности социальных связей внутри наших обществ могут быстро сократить дистанцию между восприятиями армянами соседей к западу и востоку. Уверен, что, если будут переосмыслены политические противоречия, наладится взаимодействие в конкретных областях – самыми очевидными являются эксплуатация коммуникаций через территории друг друга, приграничная торговля, использование природных ресурсов – через кажущуюся сегодня безмерно глубокой пропасть недоверия довольно быстро могут быть наведены надежные мосты.
Сказанное не означает, что мы будем одинаково оценивать исторические события, предадим полному забвению взаимные обиды, нанесенные раны и испытанную боль, но прошлое в значительной мере перестанет определять суть взаимоотношений сегодня и в будущем.
– Внутриполитическая ситуация в Армении сегодня достаточно беспокойная. Противостояние Пашиняна с целым кланом олигархов, чиновников, опирающихся на поддержку извне, и главное – с армянским духовенством, его верхушкой, вызывает обеспокоенность. Удастся ли Пашиняну выстоять в противостоянии со столь серьезными противниками? Каким вам видится итог происходящих событий, не приведет ли это все к глобальному общественному конфликту в Армении?
– Частично я уже ответил на этот вопрос. Но добавлю, что внутриполитическая напряженность – привычная атмосфера, в которой армянское общество живет уже почти 40 лет. И я не вижу причин ожидать, что мы можем рассчитывать на принципиальные изменения. Хотелось бы, конечно, чтобы противостояние политических оппонентов носило более цивилизованный характер, но это – тема другого разговора. Я не поддерживаю действия армянских властей в отношении церковных иерархов. Это не значит, что церковь, как институт, не нуждается в оздоровлении.

Но признаки разного рода болезней есть и в других структурах, к лечению которых следовало бы приступить в первую очередь. В частности, я имею в виду главную политическую трибуну страны – Национальное собрание, качество работы которого и царящие там нравы – предмет непосредственной ответственности правящей политической силы, но вряд ли могут восприниматься обществом как приемлемые. Наиболее эффективным методом совершенствования общественных институтов, на мой взгляд, является не конфронтация между ними, а избавление от пороков посредством положительных примеров. Я понимаю, почему внутренние армянские коллизии вызывают озабоченность в Азербайджане. Многие в вашей стране, как и мои соотечественники, опасаются, что они таят в себе угрозу срыва мирных инициатив.
Но я исхожу из обратной логики: если налаживание армяно-азербайджанских отношений в ближайшие месяцы сохранится как поступательный и необратимый процесс, это позитивно повлияет на внутриполитическую атмосферу в Армении и итоги голосования в июне 2026 года. Важно также, чтобы нынешний уровень взаимопонимания между официальными Баку и Ереваном, в основе которого лежит в том числе и совпадение интересов в вопросе выборов, сохранился и после них.
– Какими вам видятся дальнейшие перспективы политического климата на Южном Кавказе и мирного диалога между Баку и Ереваном? Мяч на стороне Армении, которая должна заняться изменением своей конституции, если хочет, чтобы мирный договор между нашими странами был наконец подписан. Между тем Никол Пашинян выступил с инициативой проведения всенародного референдума для решения этого вопроса. Также, если полноценный мир будет заключен, Баку, Ереван и Тбилиси в дальнейшем могут создать свой партнерский союз на Южном Кавказе, перейдя в некое новое геополитическое измерение…
– Предполагаю, что мой ответ не очень удовлетворит азербайджанскую аудиторию, но я считал и продолжаю утверждать, что конституция Республики Армения как нормативный правовой документ не содержит в себе препятствия для признания территориальной целостности Азербайджанской Республики как основы мирного соглашения. Иными словами, увязывание нашей конституционной реформы с подписанием этого соглашения было ошибкой. Другое дело, что Основной закон страны не только в нормативной, но и в декларативной части не должен противоречить существующим реалиям. Текст Декларации о независимости РА, принятой 23 августа 1990 года, естественно, изменен быть не может – он является исторической данностью, независимо от того, кто и как к нему относится. Но ссылка на этот документ в новой конституции, в частности, полнота его цитирования, естественно, может и должна быть, по моему убеждению, пересмотрена в процессе реформы и голосования на референдуме. Просто весь этот процесс следует воспринимать как сугубо внутреннее дело Армении, он не должен оказывать принципиального влияния на отношения с Азербайджаном. Тем более что столь остро воспринимаемое в вашей стране положение декларации никогда за прошедшие 35 лет не было реализовано ни на законодательном, ни на правоприменительном уровне, в частности, в актах об административно-территориальном делении Армении или в избирательных процессах.

Референдум – это демократическая процедура, на исход которой могут воздействовать самые разные факторы, включая низкую явку в день голосования из-за плохой погоды. В 2003 году у нас уже был прецедент непринятия инициированных тогдашними властями поправок в конституцию из-за отсутствия кворума, не говоря уже об оспаривании итогов референдумов 1995, 2005 и 2015 годов. Могут быть и более веские причины провала нового референдума, опять же не связанные с отношением армянских граждан к установлению межгосударственных отношений с Азербайджаном на основе парафированного в Вашингтоне соглашения. Так стоило ли создавать искусственные препятствия на этом пути?
Что касается региона в целом, у нас не может не возникать некоторое беспокойство по поводу того, что непривычную безучастность к динамичным изменениям в армяно-азербайджанском контексте проявляет добрый сосед обоих наших государств – Грузия. Она кажется настолько погруженной в свои внутренние противоречия и выяснение отношений с другими стратегическими партнерами, прежде всего с Европейским союзом, что южно-кавказское окружение перестает представлять для нее особый интерес. Притом, что вплоть до недавнего времени ее роль была существенной – вспомним хотя бы эпизод с возвращением группы военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей в июне 2021 года.
С одной стороны, можно только приветствовать, что Баку и Ереван обрели, наконец, навыки договариваться напрямую, без посредников, но трансформация отношений между ними рано или поздно потребует подключения и третьей страны нашего региона к разработке стратегических сценариев совместного развития. Только в этом случае мы можем быть застрахованы от деструктивного вмешательства извне.
А основного потенциального спойлера позитивных тенденций на Южном Кавказе, думаю, долго искать не надо. Достаточно констатировать, что реальный сдвиг в процессе армяно-азербайджанского урегулирования произошел с того момента, как из него по негласному обоюдному согласию была исключена Москва. В то же время я не склонен искать виновных на стороне. Баку и Ереван ведь сами долгое время искали третьего, кто поспособствует решению проблемы в пользу исключительно одной из сторон. Надеюсь, мы становимся свидетелями окончательного отказа от этой порочной практики.