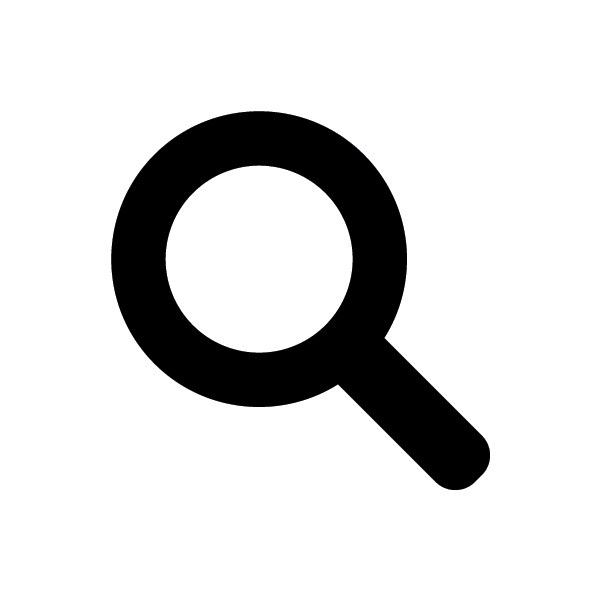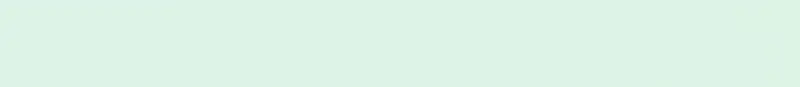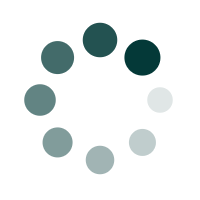Азербайджан, США и 907-я поправка: политический сигнал из Пентагона? Экспертные мнения на Caliber.Az
Издание Министерства обороны США Stars and Stripes опубликовало материал, в котором призвало Конгресс полностью отменить 907-ю поправку и тем самым укрепить сотрудничество между Азербайджаном и США. Известно, что данный пункт американского законодательства был принят под влиянием армянской диаспоры в разгар Карабахского конфликта и до сих пор ограничивает прямую американскую помощь Азербайджану.
Баку уже давно настаивает на отмене этого законодательного недоразумения, однако Конгресс до сих пор почему-то не решается на этот шаг. Возникает закономерный вопрос: почему? И не является ли нынешняя публикация в Stars and Stripes своеобразным политическим сигналом для конгрессменов, призывающим их пересмотреть подход к Азербайджану?
На эти вопросы Caliber.Az ответили известные обозреватели.

Директор Центра анализа международных отношений, дипломат Фарид Шафиев отметил, что Азербайджан давно старается добиться отмены 907-й поправки.
«Но полностью отменить её — дело достаточно сложное. Одно дело — приостанавливать действие поправки, и совсем другое — добиться её окончательной отмены. Мы видим, что некоторые американские законодательные акты, принятые ещё в отношении Советского Союза в 1970-х годах, продолжают действовать и сегодня. Например, на недавнем саммите США – Центральная Азия среди прочего обсуждалась поправка Джексона–Вэника, принятая в семидесятые годы и касавшаяся определённых ограничений в отношении СССР. Её действие до сих пор формально сохраняется, поскольку в дальнейшем оно было распространено на ряд республик бывшего Советского Союза.
Иногда действие этой поправки приостанавливалось или ограничивалось, но полностью она так и не была отменена. Потому что, во-первых, для этого необходимо обеспечить большинство голосов в обеих палатах Конгресса. А во-вторых, требуется, чтобы и демократы, и республиканцы были готовы проголосовать за такую меру. А подобное совпадение, как показывает практика, случается крайне редко», — отметил дипломат.
Он полагает, что американцы намеренно оставляют некоторые подобные карательные меры «про запас» — как инструмент давления, который можно достать из политического «кармана» в нужный момент.
«Поэтому 907-я поправка, безусловно, относится к числу тех решений, которые были приняты в 1992 году совершенно несправедливо — в период, когда часть Азербайджана находилась под оккупацией.
Разумеется, сейчас при Трампе наши отношения заметно улучшились. Однако будет ли она полностью отменена — вопрос открытый. Ведь, повторюсь, для этого необходимо одобрение обеих палат Конгресса — и Палаты представителей, и Сената.
Проблема, думаю, прежде всего в демократах. Хотя и среди республиканцев есть те, кто по тем или иным причинам поддерживает армянскую сторону или связанные с ней инициативы. Поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать полной отмены поправки. Хотя, конечно, я был бы рад ошибиться», — признался Шафиев.

Американский эксперт в области геополитики и безопасности, главный редактор издания The Washington Outsider Ирина Цукерман, в свою очередь, отметила, что сохранение 907-й поправки обусловлено не столько её практическим значением, сколько символической и институциональной инерцией американской политики.
«Эта поправка была принята в начале девяностых годов, в период, когда Карабахский конфликт находился в острой фазе, а армянская диаспора активно формировала образ жертвы и добивалась законодательного закрепления поддержки Армении. С тех пор данная норма превратилась в символ моральной позиции Конгресса, от отказа от которой теперь трудно уклониться — это неминуемо вызвало бы обвинения в измене собственным принципам.
Поправка продолжает существовать, потому что была встроена в систему политического баланса между Конгрессом и исполнительной властью. Белый дом получил возможность обходить её через ежегодные президентские освобождения, сохраняя тем самым гибкость в вопросах сотрудничества с Азербайджаном. Конгресс, в свою очередь, удержал за собой юридический рычаг, позволяющий при необходимости ограничивать помощь и демонстрировать контроль над внешней политикой.
В такой конструкции обе ветви власти нашли для себя определённое удобство — и именно поэтому никто не спешит разрушать сложившееся равновесие.
Американская система управления, как правило, не спешит отменять законы, которые можно просто игнорировать или нейтрализовать административными инструментами. Для законодателей гораздо проще оставить старый механизм в силе, чем объяснять избирателям, зачем нужно ликвидировать норму, воспринимаемую как символ моральной солидарности. Особенно это касается конгрессменов, представляющих штаты с активными армянскими общинами — им невыгодно поднимать вопрос, который неминуемо вызовет медийный резонанс и обвинения в цинизме.
Здесь работает логика статус-кво. Любая попытка отменить поправку потребовала бы проведения слушаний, голосований и открытых дебатов. А для большинства конгрессменов эта тема не входит в число приоритетных — внимание избирателей сосредоточено на внутренних проблемах. Следовательно, стимул для начала такого процесса минимален.
Кроме того, большую роль играет символическая ценность самой нормы. Для многих американских политиков она стала элементом морального наследия постхолодной эпохи, когда Вашингтон стремился выступать в роли защитника малых народов. Отмена такого символа выглядела бы как признание отхода от этих принципов и как триумф прагматизма над идеализмом.

Диаспоральный фактор также остаётся чрезвычайно значимым. Армянская община в США сумела выстроить эффективные каналы влияния — как в обеих палатах Конгресса, так и в экспертных центрах и СМИ. Это влияние не только сохраняется, но и воспроизводится из поколения в поколение, поддерживаясь устойчивой сетью организаций и лоббистских структур. Для любого политика вступать в конфликт с этой системой означает рисковать потерей поддержки в ряде избирательных округов и столкновением с организованной кампанией критики.
Тем временем юридическая конструкция самой поправки давно утратила прежнюю актуальность. Её практическое действие фактически заморожено, однако её формальное присутствие в законодательстве играет роль предохранителя: Конгресс может при необходимости вновь активировать её в случае обострения ситуации. Такая «страховка» воспринимается как инструмент контроля, а потому сохранение поправки оказывается удобнее, чем её полная отмена.
К тому же американская бюрократия крайне неохотно создаёт прецеденты отмены законов без острой необходимости. Каждый подобный случай открывает путь к пересмотру других актов, что в Вашингтоне считают нежелательным. Гораздо проще оставить формальный документ на месте, чем демонстрировать готовность корректировать политическую память и признавать устаревание моральных постулатов прошлых десятилетий.
Наконец, для любой администрации — независимо от партийной принадлежности — наличие этой нормы представляет собой удобный инструмент давления, который можно активировать в зависимости от политического контекста. Со временем она превратилась в элемент стратегической гибкости, позволяющий Белому дому маневрировать между интересами Конгресса, диаспорой и внешнеполитическими приоритетами. Отказываться от такого рычага никто не спешит.
Таким образом, 907-я поправка продолжает существовать не потому, что кто-то активно отстаивает её, а потому, что она не мешает реальной практике, оставаясь при этом носителем символической и политической ценности. Для американской системы власти этого вполне достаточно, чтобы закон сохранял силу десятилетиями», — объяснила редактор.
Цукерман считает, что главным барьером, мешающим отмене поправки, остаётся структура интересов, закрепившаяся в Конгрессе за десятилетия её существования.
«Законодатели не стремятся лишаться инструмента, который позволяет им контролировать исполнение внешней политики. Наличие такой нормы даёт возможность демонстрировать электорату моральную позицию и сохранять вовлечённость в вопросы, касающиеся Южного Кавказа.
Второй фактор — устойчивое влияние армянской диаспоры, обладающей мощной лоббистской инфраструктурой. Эти организации действуют не только в политике, но и в гуманитарной, академической и медийной сферах. Они способны мобилизовать общественное мнение и создать атмосферу морального давления на любого политика, выступающего за отмену поправки. В ситуации, когда репутационные риски для конгрессмена превышают потенциальные выгоды, рациональные аргументы теряют силу.
Третье препятствие — отсутствие чёткой коалиции в поддержку отмены. Азербайджан не располагает в США сопоставимыми инструментами влияния, а американские компании, заинтересованные в энергетическом сотрудничестве, действуют осторожно и избегают прямой политической активности. В итоге сторонники отмены оказываются в меньшинстве и не способны обеспечить необходимое давление на Конгресс.
Четвёртый барьер — процедурная сложность. Любая попытка изменить действующий закон требует координации между комитетами, согласования формулировок и проведения дебатов. На фоне более острых политических приоритетов эти вопросы легко откладываются на неопределённый срок.

Пятый фактор связан с внутренней конкуренцией американских ведомств. Государственный департамент, Пентагон и USAID по-разному оценивают стратегическую роль Азербайджана и чувствительность армянского вопроса. Отсутствие единой позиции внутри исполнительной власти делает инициативу по отмене менее убедительной для Конгресса.
Шестой барьер — медийная оптика. Любая попытка отменить поправку сразу вызывает трактовки о «моральном упадке» и «предательстве исторических союзников». СМИ склонны подавать такие шаги эмоционально, а не прагматически, что сужает пространство для политического обсуждения.
Седьмой фактор — электоральные расчёты. Для многих конгрессменов поддержание нейтралитета по этой теме — способ избежать ненужных споров в округах. Армянские общины отличаются высокой политической активностью и дисциплинированным электоратом; потеря их поддержки может стоить мандата.
Восьмой барьер — идеологическая инерция. Американская внешняя политика десятилетиями строилась вокруг идеи морального лидерства, поддержки демократии и защиты малых наций. Отмена 907-й поправки воспринималась бы как отход от этих принципов и вызывала бы внутренний диссонанс у части политического класса.
Девятый фактор — отсутствие широкой общественной дискуссии. Тема Азербайджана и Армении в американском медиапространстве остаётся маргинальной, поэтому у политиков нет стимула рисковать ради её пересмотра.
И, наконец, десятая причина — институциональная привычка сохранять законодательные «реликты». Поправка стала частью политического ландшафта США и воспринимается скорее как фон, чем как активный инструмент. Она не создаёт проблем, а потому живёт по законам бюрократической самосохранности», — полагает обозреватель.
По мнению Цукерман, появление материала в издании Министерства обороны США всё же нельзя считать случайным.
«Подобные публикации, как правило, отражают внутреннюю дискуссию в профессиональной среде и служат способом аккуратно вынести её в публичное пространство. Когда издание, связанное с военными структурами, призывает пересмотреть законодательную норму, это почти всегда делается с целью проверить реакцию политических кругов и общественного мнения.
Главный смысл такого сигнала заключается в подготовке почвы для возможного изменения политики. Публикация в Stars and Stripes позволяет представить инициативу как продиктованную соображениями безопасности и стратегической необходимости, а не как политическую уступку. Это особенно важно для американской системы, где моральная аргументация играет значительную роль.
Материал формирует контекст, в котором обсуждение отмены поправки перестаёт восприниматься как акт цинизма и начинает трактоваться как шаг к укреплению региональной стабильности. Когда подобная идея озвучивается в издании, ориентированном на военную аудиторию, она приобретает дополнительный вес и легитимность.
Для Конгресса такие сигналы действуют как приглашение к диалогу: законодатели получают возможность ссылаться на мнение военных экспертов и специалистов по безопасности, а не на собственные политические расчёты. Это снижает риск обвинений в ангажированности и делает обсуждение более безопасным.
Публикация также адресована внутренним ведомствам. Она демонстрирует, что в оборонном и аналитическом сообществах назрело понимание необходимости пересмотра устаревших инструментов, тем самым подталкивая Госдепартамент и Белый дом к более активной позиции.
Статья в Stars and Stripes может рассматриваться как форма «мягкой разведки боем»: авторы и кураторы наблюдают за реакцией различных центров влияния и по этим сигналам оценивают, насколько политически безопасно продвигать тему дальше.
Не менее важно, что текст рассчитан и на международное восприятие. Он показывает союзникам и партнёрам США, что в Вашингтоне идёт обсуждение новой линии, основанной на прагматизме, а не на исторических реликтах, что укрепляет доверие к американской политике в регионе.
Кроме того, публикация посылает чёткий сигнал Баку: в Вашингтоне растёт число сторонников более тесного взаимодействия. Это побуждает Азербайджан активизировать дипломатические контакты и демонстрировать свою надёжность как партнёра.
Наконец, сама форма публикации подчёркивает, что в американской политике решения никогда не принимаются внезапно. Прежде чем выносить вопрос на уровень Конгресса, система проводит серию пробных шагов. Stars and Stripes в данном случае выполняет роль инструмента тестирования почвы и передачи настроений от экспертного слоя к законодательной ветви власти.
Таким образом, опубликованная статья действительно носит характер политического сигнала. Она не означает, что решение уже принято, но ясно показывает, что обсуждение вышло из закрытой фазы в открытую, а это всегда первый шаг к изменению официального курса», — заключила эксперт.